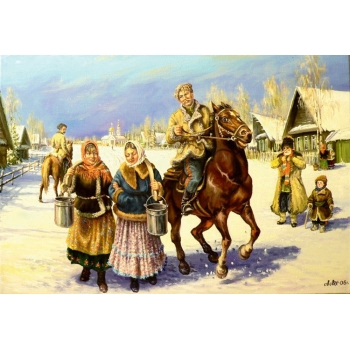Русский язык как евангелие
«Русский язык основан на Евангелии».
О подлинном смысле привычных слов
Участники и гости конференции «Русский язык как духовный и культурный собиратель нации» с интересом ждали выступления известного Православного писателя Василия Ирзабекова. И Василий Давудович не разочаровал любителей его творчества, посвященного новому открытию подлинных значений исконных русских слов.
«Сегодня статистика по семье страшная, – начал он свое выступление. – 80 процентов браков, которые заключаются молодыми людьми, заканчиваются разводом». Наверное, поэтому выступление писателя было посвящено теме семьи и тем важным словам, без которых понятие семьи невозможно.
Не ведающая греха
 |
Несколько лет назад я находился в благословенном Константинове, на родине Сергея Александровича Есенина. Там было очень много молодежи на фестивале, и я задал им вопрос: что ваше русское ухо слышит в слове «невеста»? И девочка из хора отца Виктора Дорофеева, из подмосковного Богородска, ответила: «Невеста – это та, кто не ведает, что творит». Я сказал ей: «Ты не представляешь, насколько ты права. Потому что многие вступающие в брак и в самом деле не ведают, что они творят».
Мне стало любопытно, и я стал собирать версии толкования слова «невеста». В стенах Московской Духовной Академии, где были курсы повышения квалификации преподавателей Основ Православной культуры, мужчина лет пятидесяти мне сказал: невеста – это, вообще-то, неведомо откуда пришедшая. Один мальчик сказал: невеста – это весна. Это была самая красивая версия.
На самом деле невеста – это не ведающая греха, чистая, святая, честная.
«Испорченное» слово
Когда люди женятся, это происходит в загсе, такая необходимая процедура – их поздравляют с созданием новой ячейки общества. Так было и в советское время, так есть и сейчас. Общество, которое отделило себя от Церкви, тем не менее прекрасно осознавало, что семья – это главная ячейка и по-другому быть не может.
Но обязательно среди приглашенных гостей найдется какой-то человек, который, поздравляя новобрачных, скажет эту, с позволения сказать, шутку: «Хорошее дело браком не назовут». И меня, тогда еще светского и советского (вы посмотрите: как слова похожи!) человека, так даже тогда это коробило. Ну как же? Только что сказали, что закладывается новая ячейка общества, и тут – брак. Да, когда испорчена резьба – это брак. Плохо выпеченный хлеб – это брак. И то, что Церковь наша таинственно именует Малой церковью, – тоже брак? Обратите внимание: не маленькой церковью. Малая – это духовное смирение. Так почему и то «брак», и это «брак»?
Слава Богу, что когда-то в России жил и творил удивительный человек, в котором не было ни капли русской крови, Владимир Иванович Даль. Он оставил нам настоящее сокровище – чудный «Словарь живаго великорусскаго языка». Откройте этот словарь. Даль пишет, что, несмотря на орфоэпическое сходство, это разные слова. И происхождение у них разное. Тот брак, который означает некондиционное изделие, слово немецкое. А вот слово «брак», который «семья», – исконно русское.
Все исконно русские слова нам говорят о Христе. А еще каждое русское слово имеет как бы два уровня. Один очевидный, а другой всегда таинственный. Так вот «брак» – это от брашно, яство, питие. Первое, что мы можем предположить, – это пошло из Евангелия. Помните чудо, которое сотворил Господь в Кане Галилейской, одним Своим приходом освятив институт семьи? Второе – это из Таинства венчания. Вспомните, кто венчался, – когда Таинство близится к завершению, священник выносит чашу с вином. И каждый супруг, сначала муж, потом жена, делают по глотку. И это тоже таинственно. Ведь вино в себе всегда сочетает два вкуса – и сладость, и горечь. И чаша тоже символ: отныне все, что жизнь будет посылать супругам, надо делить поровну. И потом никогда никаких «не сошлись характерами» приниматься во внимание уже не будет. Удивителен небесный смысл такого простого русского слова.
Что такое семья?
В Москве уже несколько лет есть такая вещь, как социальная реклама. Пока спускаешься по эскалатору в метро, видишь красочные плакаты, где изображены матрешки, а внизу приведены слова философа Френсиса Бэкона: «Любовь к государству начинается с семьи».
Как вы думаете, сколько матрешек там изображено? Правильно, семь. Вот какой русский язык легкий! Семья – это, оказывается, семь «я». А почему не шесть? Моя семья, например, – всего четыре человека. А те двое новобрачных, которых целый день все поздравляли, это разве не семья?
Это же русский язык! Что такое «семь я»? Это – если меня клонировать и рядом со мной поставить шесть моих клонов, то как раз будет семь я. Но это же русский язык! Он весь состоит из Евангельских понятий! И чтобы понять, что есть слово «семья» в русском языке, наверное, надо открыть Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24, где в притче устами Самого Господа Иисуса Христа звучат эти удивительные слова: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Семья русская – это семя, это евангельское семя, которое должно прорасти. А чтобы оно проросло, что нужно? Нужна жертва. Любовь немыслима без жертв. Ибо в русском языке слово «любовь» и слово «боль» – слова одного корня.
Конечно, мы, современные люди, очень боимся боли, боимся страданий. Само слово «жертва» отпугивает людей. Но жертва – это добровольное лишение себя какого-то комфорта. И конечно же, служение ближнему. Вот какие удивительные вещи открываются в словах русского языка!
Двое в одной упряжке
Много лет назад я преподавал русский язык иностранным студентам. И потом из одного иностранного консульства мне пришло приглашение на праздничный ужин. В нем было написано, что приглашается «господин Ирзабеков с супругой». Тогда я по наивности думал, что жена – это, как Алексей Константинович Толстой писал, для ежедневного языка. А вот супруга – это нечто возвышенное. Это потом я прочел Евангелие с этим благоухающим словом. Я его произношу сейчас – и у меня сердце замирает: «Жено». А супруга? Супруги – это, вообще-то, два вола, которые запряжены в одну упряжку. То есть, если перевести приглашение дословно, то получается: «Уважаемый вол, в субботу возьмите свою волицу и приходите к нам на ужин».
Когда я впервые об этом узнал, мне вдруг так стало страшно. Помните строки из «Евгения Онегина»? «Супружество нам будет мукой…». И вдруг – волы. Какие волы, я ее так люблю! Что же это такое? А вы знаете, на мой сегодняшний взгляд, это самый настоящий символ семьи. Это правда. Просто когда только создалась эта семья, повозку сзади никто не замечает. А почему? Потому что оба молоды, здоровы, повозка легкая – ни одного пассажира пока нет. С годами что-то меняется. В повозке появляются первые пассажиры – дети. Но они маленькие. Да еще и родители живы, бабушки-дедушки, нам помогают. Они тоже впрягаются в эту повозку. Но еще далее с годами она становится все тяжелее, идти уже сложнее – появляются болезни, скорби, лишения, предательства. И что тогда? Так вот, если это семя правильно взрастили, если своих «пассажиров» мы правильно воспитываем, то случается чудо. В какой-то момент они спрыгивают с этой повозки и говорят: «Давай помогу». И уже везем повозку все вместе. А есть такие дети, которые скажут: «Папа, мама, остановитесь. Садитесь, теперь мы повезем».
Какой красивый на самом деле символ! И как легко и радостно справляться с ношей, когда есть любовь. Есть одна древняя индийская коротенькая притча. Когда слон целый день перетаскивал бревна, к вечеру ему стало казаться, что он сейчас упадет и больше не поднимется. Тогда подошла слониха и сдунула с него хоботом всего одну щепку. И он воспрянул, почувствовал себя готовым еще сколь угодно долго носить эти бревна. Вот чего мы ждем друг от друга, от семьи – внимания, сочувствия, участия.
Русский народ – одна семья
Русский человек, русское общество может существовать только как семья, иначе оно обречено. Мне, человеку, который «приплыл с того берега», хорошо заметны вещи, к которым вы уже привыкли и перестали замечать. «Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянии». Так вот, ни в одном восточном государстве народу в голову не придет именовать правителя отцом. Там есть шахи, эмиры, но отцов нет. И даже к муллам, духовным лицам, добавляется слово, которое переводится как «дядя». А в России как мы называем священника? Не просто «отец», мы называем ласково «батюшка»! А ведь было время, когда мы и правителя могли называть Царь-Батюшка. А раз у всех один отец, то весь народ – одна семья.
Служить языку
Сегодня наш святой язык подвергается настоящим гонениям и издевательствам. Раньше я часто говорил, что надо спасать, надо оберегать язык, не понимая, какая это самонадеянность. Нас оберегает, нас спасает сам русский язык. И когда встает задача: а что мы должны и можем сделать для языка, я думаю, самое важное, что может сделать человек, для которого русский язык родной, – это служить языку. А что требуется от слуги? Верность.
И закончить мне хотелось бы строками стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Мужество». Удивительно, что в страшное время войны, находясь далеко от родного Ленинграда, который в то время был в блокаде, она пишет именно о языке. Сотни раз я читал это стихотворение и не слышал этих слов:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
И тут вдруг услышал и в какой-то момент понял, что по возрасту мог быть бы ее внуком. Значит, передали, донесли до нас язык. И теперь нам предстоит нести эту почетную ношу. И теперь уже перед моим поколением стоит великая задача не предать свой язык, сберечь его хотя бы для внуков. Ибо защита русского языка, сбережение его сегодня задача не филологическая, не культурологическая и не эстетическая. Сегодня, когда мы охраняем наш язык, мы охраняем нашу веру, нацию, землю и, в конечном счете, великую святую русскую душу.
Русский язык – язык Евангелия
– Расскажите, пожалуйста, как Вы стали заниматься исследованием духовного смысла русского языка.
– По образованию я филологрусист, окончил Институт русского языка и литературы им. М.Ф. Ахундова, преподавал русский язык иностранным студентам в Азербайджанском государственном университете. Заниматься же исследованием русского языка я изначально не собирался. Но после распада СССР у нас в Азербайджане произошла революция, началась война, и мне с семьей пришлось переехать в Москву. Здесь нас постигло еще большее потрясение: нас, беженцев, обворовали. Забрали все: документы, деньги. На первый взгляд, парадоксально, но именно в этот момент, когда можно было «обидеться» на судьбу, у меня возникло непреодолимое желание креститься. Еще живя в Баку, накануне перелома в своей жизни я страстно искал веру. Начал ходить в мечеть, читал Коран – конечно, в переводе. Но свой первый намаз так и не совершил. В России я крестился, стал ходить на богослужения. А так как я окончил музыкальную школу, многие вещи воспринимаю на слух. Язык, речь – это тоже музыка. В храме я заново услышал русский язык, и это меня поразило. Оказалось, что в Церкви живет настоящий русский язык, подлинный, там сохранилось благоухание слова, самое главное в нем – корни. В храме русский язык осмыслен. С этого все началось. Если бы не было воцерковления – не знаю, чем бы я сейчас занимался. Но история не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Господь меня пожалел.
– Цикл Ваших лекций называется «Русский язык как Евангелие». Почему именно в русском языке слова несут в себе христианский смысл?
– И все же, неужели все-все слова нашего языка связаны с верой?
– Не все. Только исконно русские слова – а их не так много. Многие самые простые слова: «лошадь», «охотник», «очаг», «каземат» – имеют тюркские корни. «Ох» в тюркских языках означает «лук», а «ат» – «бросай», соответственно, охотник – тот, кто бросает стрелу из лука. Все слова, которые начинаются на «кара», – тюркского происхождения; «кара» значит «черный». «Карга» – мы говорим «старая карга» – означает поазербайджански «ворона». Слово «колбаса» – татарское: «кол» означает рука, а «бас» – давить: название несет в себе описание технологии приготовления этого продукта: в кишку набивают фарш. Русский язык потому и богат, что впитал в себя множество слов из других языков, которые «обрусели». «Чистый язык» если гдето и существует, то это наречие какогонибудь затерянного в джунглях племени, которое не общается с внешним миром. Русский язык – это отображение русской нации. В.И. Даль, у которого нет ни капли русской крови, – русский человек. В.А. Жуковский, которого родила турчанка, А.В. Суворов, которого родила армянка, – все это русские люди! Поцерковнославянски «язык» – это народ: каков народ – таков и язык. Поэтому заимствованные слова – это богатство! А вы думаете, другие языки не заимствуют слов? Попробуйте внушите азербайджанцу, что «стакан» или «самовар» не азербайджанские слова! Приедешь куданибудь в горы, первое, что вам предложат, – это чай из «симавера». Но, возвращаясь к нашей теме, скажу, что все исконные слова русского языка – о Христе. Русский язык – язык Евангелия. А, например, мой родной азербайджанский язык – ветхозаветный. Как мы порусски иносказательно назовем предателя? – Иуда. А в азербайджанском предатель – «хаин», то есть Каин! В русском языке слово «человек» происходит от «словек» – об этом писали Шишков и многие другие ученые. А слово – это Христос, Бог Слово! В целом же ряде тюркских языков человек – «адам». Еще один пример. Моя бабушка всегда называла непорядочных людей «фироун». Она ушла из жизни в 1969 году. И только несколько лет назад я расслышал, что она говорила: это же фараон! Помните исход евреев из Египта, как вел себя фараон: «отпущу. не отпущу. », потом послал вдогонку войско. Это же вероломство! Каждый язык интересен! Если бы у меня была вторая жизнь, я посвятил ее азербайджанскому языку. Там есть такие тайны! Например, закон гармонии – подобного я больше нигде не встречал. В русском языке шесть гласных звуков (не считая дифтонгов), а в азербайджанском – девять. Он очень звучный, хорошо распевается. В этом языке все гласные делятся на грубые – а, о, у, ы – и нежные. И закон гармонии состоит в том, что в исконных словах языка все гласные должны быть или грубыми, или нежными. По этому правилу я могу сразу понять, какое слово азербайджанское, а какое пришло из другого языка. Например, мое имя – Фазиль – арабского происхождения, это видно по тому, что одна гласная в нем грубая, а вторая – нежная.
– Что для Вас идеал русского языка: церковно-славянский?
– Место церковнославянского языка уникально. Он создан святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием для общения с Богом. Конечно, мы друг с другом разговаривать по церковнославянски не можем и не должны. Это было бы неестественно. Это язык для богообщения. Как писал Алексей Константинович Толстой, нельзя с Богом говорить на «ежедневном» языке. А еще – упаси нас, Господи, от рафинированной речи. Некоторые думают, что правильно говорить порусски – значит говорить так, чтобы все слова были выверены, «продезинфицированы». Но это будет «постная» в худшем смысле этого слова, «невкусная» речь. В ней не будет ничего живого. Есть слова эмоционально, экспрессивно окрашенные – и слава Богу. Если ктото излишне волнуется – ничего плохого нет в том, чтобы сказать ему «не парься!». Речь должна быть живой, насыщенной. Есть английская поговорка: «Хорошо одетый человек – это человек, одетый по случаю». То же можно отнести и к речи. С вами я говорю немного поиному, чем, например, с соседомподростком, который вырос на моих глазах. Чего не должно быть в нашей речи – так это скверных слов. Сквернословие – страшная вещь, она оскорбляет. А оскорбить – значит нанести скорбь: как бы накинуть на человека черную сетку печали. Разве нам не хватает скорбей в этой жизни? Еще хуже – матерная брань. В науке ее очень правильно называют инфернальной – то есть адской – лексикой.
– Инфернальную лексику действительно придумали татаро-монголы?
– Они ее не придумывали. Я сам над этим задумывался – еще лет тридцать назад. В русском языке есть одно препохабнейшее слово. Даже беседуя с мужчинами, я его не произнесу. Но это же слово есть в литературном азербайджанском языке и в целом ряде тюркских языков. И там оно обозначает «жениться». Как это может быть: в одном языке слово означает такую замечательную вещь, как женитьба, а через границу – это инфернальная лексика? Мы часто не учитываем такую вещь, как контекст. Если мать гладит по голове сына и говорит: «Ты мой дурачок» – он улыбается. Но стоит этому мальчишке выйти на улицу – и если там ктото из товарищей обзовет его дурачком, какова будет его реакция? Слово пребывает в неком народе и означает замечательную вещь – «жениться». Но когда этот народ приходит на мою землю как агрессор – в его устах я все воспринимаю как оскорбление. И это слово в моем восприятии приобретает оскорбительный смысл. Когда агрессор приходит на чужую зем
лю – он стремится уничтожить живущих там людей духовно, разрушить их. Что является духовным стержнем человека? – Его вера. И завоеватели хулили веру русских. Низость человеческой натуры состоит в том, что потом русский человек берет это слово, принесенное врагом – уже с оскорбительным смыслом, – и говорит его товарищу, брату, свату. Матерная брань – тема отдельной лекции, причем, к сожалению, тема очень востребованная. Это наша беда, у нас ругаются повсюду: от детских садов до высших учебных заведений и далее, на предприятиях, в воинских частях. Если в двух словах, мат – это хула на Приснодевство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Незнание законов не освобождает от ответственности – это правило действует и в духовной сфере. Матерная брань – это всегда хула на Пресвятую Богородицу, попытка оскорбить Ее чистоту, эту Благоуханную лилию. Поэтому мат – инфернальная лексика: человек призывает ад.
– Русский язык построен на православной вере, тюркские языки – не-редко на Ветхом Завете. Язык – это сознание человека. Что же происходит с теми людьми, которые в Бога не веруют?
– Нерелигиозные люди – феномен нашего времени. Сложно представить ситуацию, чтобы русский человек, живший лет двести назад, не был крещен. Он мог уйти в раскол, в секту – но нерелигиозных людей не было. Во всей природе разлита некая таинственная религиозность: для чего поют птицы на восходе солнца? Они что, пищу приманивают или подругу? Нет. Кому они поют? – «Всякое дыхание да славит Господа». Для кого цветут мириады цветов, если красотой их может насладиться лишь человек. Я часто думаю: как живут люди, которые не приходят к вере? Наверное, они потом сходят с ума. Чехов писал, что в сердце есть особый клапан, который открывается только для поэзии. Есть люди, у которых этого клапана нет или он наглухо запаян. Так же и с верой. Атеисты – это люди, на духовное пробуждение которых еще есть надежда. Но существуют люди, абсолютно безразличные к вопросам веры. Я знал человека, полностью лишенного обоняния – он ударился головой и потерял эту способность. И что, злиться на него за это, за то, что он не ощущает запаха цветущего лимона. Меня всегда волновал вопрос, почему Бог не всем дает веру. Я нашел ответ у святых отцов. Вера предполагает действие. «Вера без дел мертва». Человек, не принявший веру, будет судим по закону совести. А верующий – по Евангелию. И кому придется легче, как Вы думаете?
– Сегодня часто приходится слышать, что речь людей становится все беднее, язык деградирует. Может ли язык не деградировать, а меняться к лучшему? И что для этого можно сделать?
– Если человек изменится к лучшему, поменяется к лучшему и язык. Язык – зеркало нации. Он показывает, что с нами происходит. Ничто не связано с душой так, как язык. У людей, которые понастоящему пришли в Церковь, меняется и речь. Если же говорить о целенаправленных действиях – у меня есть только один рецепт. Обращаю его в первую очередь к мужчинам – главам семейств. Надо читать вслух. Усаживать домашних и читать им классическую литературу. Слово поиному воспринимается, когда читаешь его вслух. Я могу трижды прочесть написанный мной текст – но последние правки все равно делаю, когда читаю его вслух своей супруге. И детей к чтению надо приучать с самых ранних лет, читая им хорошие книги. А нам все некогда.
– Сегодня все большее развитие получает интернет. Появляется и множество православных сайтов. Но в Сети свои законы: тексты должны быть краткими – длинные с экрана просто не воспринимаются. Не обедняет ли это наш язык?
– Развитие интернета – это хорошо. Например, уже два года в интернете работает и мой журнал «Живое слово» – http://zhivoeslovo.ru/ Там публикуются сотни людей: печатают свои рассказы, стихи, статьи. Была идея сделать его бумажным – но я понял, что на бумагу все это уже не перевести: новые материалы публикуются каждый день. Нам надо делать свой интернет, воцерковлять это пространство. И телевидение надо воцерковлять! Да, у современных людей примат картинки над словом – и что же мы теперь, лапки кверху? Нет, надо с этим работать! Чем и занимаются православные телеканалы, интернетпорталы. При этом всегда надо стараться правильно говорить порусски. Не стоит пытаться быть понятными всем – это «широкие врата», о которых предупреждает Евангелие. Такие попытки заканчиваются субкультурой, а субкультура – это не культура. Культура – от слова «культ». Каков культ, вера – такова и культура. Искусство, в том числе и слово, опубликованное в интернете, должно возвышать человека.
– Какие практические рекомендации Вы дали бы авторам, пишущим для интернет-сайтов?
– Не надо писать вычурно и длинно. Самую сложную проблему можно уместить на одной странице. Я работаю с текстом, беря в пример А.П. Чехова. Пишу, а потом начинаю вычеркивать – до тех пор, пока не останутся лишь те слова, убрав которые я потеряю смысл фразы. Речь идет именно об интернеттекстах, к лирическим описаниям в художественной литературе это не относится. У меня есть добрая знакомая – Наталья Лясковская, она замечательный поэт. При этом она очень активно живет в интернетпространстве, в Фейсбуке. И все, что она пишет там, – литературно в самом правильном смысле этого слова! У нее нет ни одного проходного словечка! Должна быть просто чистая речь. Есть место и шутке, но делу время – а потехе час. Речь не должна превращаться в бесконечные «приколы». Я по рождению нерусский, поэтому со стороны мне хорошо это видно: русскому человеку несвойственно хохмачество. Он по природе серьезен. Это хорошее качество. А сегодня от нас ожидают, что мы будем постоянно шутить, ерничать.
– Сегодня идут дискуссии: русский и украинский – разные наречия или диалекты одного и того же языка?
– В последней на сегодня моей книге «Русское солнце, или Новые тайны русского слова» есть глава «Два языка Руси Великой». Цитирую академика А. Зализняка: «Ведь ныне мы, – рассуждает он, – прежде всего, думаем о трех языках: русском, украинском и белорусском. И очень часто, по естественному анахронизму, предполагаем, что, наверно, так было всегда. Оказывается, что ситуация древнего членения не похожа на нынешнюю. Эта же самая территория делилась не на три части, а на две, и эти две имели географическое деление, отличающееся от современного. А именно, отделялся СевероЗапад, это Новгород и Псков с соответствующими землями. Очень большая территория, потому как Новгород включал все владения Севера. Вот и нынешние вологодские, архангельские, пермские земли были в свое время Новгородской землей. И все это с захватом части нынешней Северной Белоруссии – вот такой СевероЗапад. Это был один диалект или один диалектный тип. В противоположность Югу (будущей Украине), Центру (будущей России), Востоку (нынешней восточной части Европейской России) – между собой, повидимому, в достаточной степени единые, они составляли вторую часть». Я вам больше скажу. Бывая в Латвии, в Швеции, я расслышал в речи жителей этих стран корни, общие с русским языком, – таких слов не одна сотня! В Прибалтике, в Германии, жили славянские народы, подвергшиеся затем онемечиванию. До распада СССР в филологии существовало понятие «славянобалтийская группа языков». А потом политики стран Балтии настояли, что такой группы нет! В русском языке множество диалектов – но это один язык. На юге России петух – это «кочет». Киев – мать городов русских, там сохранилась Десятинная церковь – первый православный храм на Руси. Как же мы можем быть разными народами и говорить на разных языках? Стремление нации к самоидентификации – хорошее стремление. Но для его реализации есть два способа. Первый – разобраться в себе, в своих корнях, истории, языке, отсеять все наносное, низкое и стремиться быть лучше. Но это очень сложно. Кстати, эта задача ежедневно стоит перед каждым из нас. А есть другой способ – искать вину не в себе, а в другом, это легче. Но это сатанинский путь. Мы все время приходим к Евангелию: есть широкие врата, а есть – узкие. Я – азербайджанец, принявший Православие. Вы думаете, во мне стало хоть на йоту меньше азербайджанского? – Нисколько! Но я сейчас, с этой точки зрения, вижу все, что не украшает мою нацию, и бережно сохраняю в себе все, что делает ей честь. А находясь там, внутри, этого не видишь так явно. Легко сказать, что «кацапы» во всем виноваты. И даже некоторое время на этом продержаться. Но этому быстро придет конец. Моя бабушка любила рассказывать притчу о двух пьяных. Они вместе пили, потом один упал в лужу, а другой по стенке всетаки както шел. И тот, который не упал, стал стыдить лежащего в луже: «Мы вместе пили, что же я стою, а ты валяешься?» Знаете, что ему ответил товарищ? – «Я на тебя посмотрю, когда стенка кончится!» Вот мы посмотрим на них, когда стенка кончится. Она уже почти кончилась. На майдане звучат призывы убивать русских – на русском языке. Перехватывают переговоры антироссийски настроенных политиков – все говорят порусски. Говорят: «Россия – наш враг» – но сотни тысяч мирных жителей бегут в Россию. «Россия – агрессор» – но раненые пограничники машут белым флажком, и их забирают на лечение, и они говорят: «У вас как в раю: нас здесь кормят и не унижают». На Россию возложена очень большая ответственность. Поэтому русскому человеку свойственно великодушие. Я, как нерусский человек, это понимаю. Многие воспринимают это неправильно, расценивают как слабость – а это признак силы. Это – христианское качество. Если бы все были настоящими христианами – войн бы не было. Среди моих друзей – отец Алипий из Киева, тот батюшка, который в начале майдана встал, в числе нескольких, между противоборствующими сторонами на линии огня, призывая к миру тех и других. Он написал в Фейсбуке удивительную вещь: «Я не понимаю, какому Христу поклоняются священники, которые призывают убивать русских. Наверное, у них какойто другой “христос”».
Беседовала Алина Сергейчук.